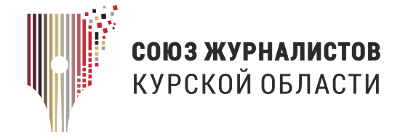Журналистика в Курской области
Иду и возвращаюсь. Продолжение.
7 -го мая в Курском Доме журналиста будут подведены итоги 19-го областного конкурса имени Константина Воробьева на лучшее журналистское произведение на военно-патриотическую тему. В числе лауреатов конкурса и А.П.Щигленко за повесть "Иду и возвращаюсь". Мы продолжаем её публикацию.
Мама потерялась.
«С целью дискредитации партизанского движения создавать ложные отряды из полицейских, переодетых в красноармейскую форму. Осуществлять грабеж, поджоги деревень, убийство граждан, убой скота…».
(Из директивы вермахта «О борьбе с бандитами»).
Дорога на Осычки была сырой и вязкой. Возок по ней катился тяжело, и мне пришлось идти пешком. Под ногами в песке иногда похрустывали проросшие грибы, и мне казалось, что я наступаю на что-то живое. Придорожные кусты вырастали из тумана как притаившиеся чудища, и было очень страшно. Вскоре стало светлеть, пробилось солнце, и мы увидели, что кроме нас на дороге никого нет. Но здесь всё же кто-то уже бывал и даже стрелял – я нашел несколько патронных гильз. Увидев их, мама посадила меня на возок, и мы пошли быстрее. Бабушка сказала, что скоро должен появиться хуторок с очень вкусным названием – Борщев. От этого ещё больше захотелось есть, и мы, не дожидаясь первой хуторской хаты, остановились у небольшого ручья. Картошка в мундирах с козьим молоком таяла во рту. Та нехитрая наша еда в беженцах вспоминается сейчас как бесподобное лакомство!
Отдыхали недолго – хотелось поскорее дойти до места. Темнело, когда мы еле-еле добрели до Осычек. Хаты стояли притихшие, нигде ни огонька. Стали стучать в окно крайней хаты: «Ульяна, мы из Березовки от Марфы!». Долго никто не отвечал, потом шевельнулась занавеска на окне, послышались шаги, звякнул засов и дверь отворилась. Огонь не зажигали, сидели в темноте и тихо говорили. Баба Ульяна жила одна со своей дальней одинокой родственницей, хромой теткой Дусей, помогавшей ей по хозяйству. Про своего мужа Ульяна ничего не рассказывала, лишь смахивала слезу: «Если б я знала. Ушел на фронт и ни духу ни слуху».Нам отвели в хате угол за печкой с топчаном и лежанкой. Рядом стоял деревянный ткацкий станок, а вся комнате была застлана цветными половиками.
Утром мама с бабушкой сразу взялись за работу. В хозяйстве Ульяны была корова с белой звездочкой на лбу, которую звали Зирка, и большой, до самого леса огород. Уля тайком рассказывала, что был ещё и поросенок, но однажды его забрали партизаны, оставив расписку о том, что подсвинок будет ей возвращен стразу после войны. «Когда же это будет?» – вздыхала Ульяна. Осень стояла теплая, и женщины молотили цепом просо, копали картошку, срезали шляпы подсолнухов и насаживали их на стебель семечками кверху. Потом, когда они подсыхали, мне нравилось колотить по ним палкой над ведром и видеть, как черные зернышки дружно сыплются вниз.
В Осычках немцев не было, но я видел один раз, как они на машине приезжали за продуктами. Налог для них собирал здешний староста. Он заранее объезжал на телеге все хаты, и люди несли ему яйца, куриц, муку, мясо, картошку. «Отдаем всё без ропота, – говорила Ульяна. – Лишь бы немцев тут не видеть».
Дуся привязалась ко мне и никуда меня одного не отпускала, следя за каждым моим шагом. Однажды мы с ней ходили по свинушки – эти грибы росли прямо на краю огорода, на опушке леса. Дуся взяла с собой полную кошелку, накрытую платком. Я подумал, что это, наверно, еда для меня. Неожиданно из-за деревьев показался незнакомый человек и сделал какой-то знак Дусе. Она не испугалась, а подошла к нему, передала кошелку, и мужчина скрылся. Я потом рассказал об этом маме. Она перекрестила меня и попросила никому больше об этом не говорить.
А вскоре в Осычках прямо днем, не прячась, откуда-то появились два человека в линялых гимнастерках. Они заходили во дворы, просили хлеба и спрашивали, как пройти к партизанам. Староста из хаты не показывался. К ним вышла Дуся, дала им хлеба и замахала руками, чтобы они уходили. Хутор притих и насторожился, усмотрев в приходе чужаков что-то неладное, но дни шли, и люди стали забывать об этом.
Мама узнала, что несколько женщин из соседних хат засобиралась в Радомышль на толкучку и решила пойти вместе с ними, чтобы выменять мне какую-нибудь ладную шапку: не годится, мол, мальчику ходить зимой в женском платке. Она взяла для мены стакан соли, мешочек с табаком, комок сливочного масла, завернутый в лист лопуха, что дала баба Ульяна, а ещё свою довоенную беретку. Мама подержала её в руках, вздохнула и положила в сумку. Я вспомнил, как мы с мамой и отцом были однажды на каком-то празднике, играла музыка, а я сидел на отцовских плечах и сверху весело смотрел на белый мамин беретик. От жалости, что теперь его у нас никогда больше не будет, я расплакался. Мама утешала меня и говорила, что после войны она купит себе новую красивую шляпку. Но я, глядя на её красные, потрескавшиеся и мокрые от моих слез руки, ревел ещё больше… ,
Утром мама ушла, а я стал ее ждать. Сидя на завалинке, я смотрел, как Дуся выгнала Зирку в огород и стала собирать шиповник, что рос прямо у нашего забора, как бабушки перебирали картошку. Солнце уже начало садиться, как вдали послышался шум машины.
– Это мама едет! – обрадовался я.
Но Дуся насторожилась. Вскоре из-за леса показался грузовик с людьми вроде невоенными, но с винтовками. Возле нас с машины спрыгнули двое пьяных мужчин. Пошатываясь, они направились к калитке. Завидя их, Дуся бросилась загонять корову в хлев.
– Стой, убогая! – заорал на Дусю бородатый мужик в полушубке. – А вы, бабы, со своим отродьем марш на середину хутора, все туда – к колодцу.
Дуся тем временем быстро затолкала Зирку в хлев и закрыла за собой дверь на щеколду. А незваные гости зашли в хату, всё перевернули, раскидали и полезли в погреб. Потом стали выносить на улицу мешки и узлы. Бабушка Уля бросилась им в ноги и заголосила, но грабители оттолкнули её ногой и направились к хлеву.
– Выходи, партизанская ведьма, а то хуже будет! – кричали они и стучали прикладами винтовок в дверь.
Дуся не открывала. Тогда бородатый несколько раз стрельнул по хлеву, и почти сразу его соломенная крыша задымилась. Потом из всех щелей повалил черный дым, показался огонь, замычала Зирка. Неожиданно дверь отворилась и на пороге хлева показалась Дуся. Припадая на ногу, она быстро подбежала к бородатому и набросилась на него с кулаками, но тот успел выстрелить. Дуся вдруг застыла на месте, потом согнулась и как-то боком упала. Из хлев, ломая дощатую загородку, выскочила Зирка и, дико взбрыкивая и мыча, помчалась по огороду к лесу. Запахло паленой шерстью. Но снова раздался выстрел, и корова рухнула на неубранные ещё капустные кочаны. Кричали, кажется, все: бабушки, люди в соседнем дворе. У меня от страха пропал голос, и я только хватал ртом воздух. Бабушка схватила меня в охапку и куда-то побежала…
Чудный заговор.
«Всем гражданам, не являющимися местными жителями, незамедлительно явиться в полицию для регистрации. Неявившиеся при обнаружении будут казнены».
(Из приказа немецкого командования.)
Я очнулся в какой-то чужой хате, было почти темно, а бабушка Марья гладила меня по голове и тихо приговаривала: «Слава тебе, господи, ожил, ожил».
– А где ммоя мммама? – спросил я и запнулся от досады, что не могу сразу выговорить такое простое слово.
Замолчал я ещё оттого, что вокруг тесно сидели незнакомые люди и слушали бабушку.
– Вначале не могли понять, кто едет на машине: немцы или, может, полицаи? Но явились какие-то люди со стороны, по говору – западенцы, стали грабить всё подряд, бить людей плетьми и стрелять. Чисто ироды…. Спалили несколько хат, пригнали всех к колодцу, кричат: копайте себе яму! Поднялись вой, плач, стрельба. Я взяла дитё на руки и, благо смеркалось, кинулась в сторону, – говорила она с остановками, сглатывая слезы. Было тихо-тихо, лишь потрескивал фитилек в керосиновой коптилке.
– Тут, на счастье, подвернулась чья-то подвода, нас пожалели и подсадили на нее. Возчик, боясь погони, выбрал болотистую дорогу. Спаслись чудом…. Но как быть дальше – не знаю: ни еды, ни одежды. И невестка потерялась, да ещё и внук с испуга стал, кажется, заикаться. Хоть ложись и помирай. Господи, за что нам твоя кара! – запричитала бабушка.
– Не гневи Бога, женщина, – сказал кто-то из темноты. – Всем нынче трудно – такая наша доля. Тебе вон надо ещё мамку внука разыскать, да и речь ему поправить. Где ж тут помирать?..
За окном стало светать. В хате оказалось полно людей. Они сидели и лежали повсюду: на большой беленой печи, на дощатых полатях, на лавках и на глиняном полу, застланным соломой. Одни из них прибились в эту хату ещё вчера днем, другие, как и мы с бабушкой, ночью. Рассказывали, что грабежи и убийства прошли накануне в Каменном Броде, Русановке и в других соседних селах. Добраться до Заболоти погромщикам помешало, видно, бездорожье.
Хозяйка хаты, баба Палажка, растерянная обилием народа, молча растопила печь, сварила два чугуна картошки, поставила на стол миску квашеной капусты. Потом стояла в стороне и, вытирая глаза платком, смотрела, как едят гости, перекидывая с ладони на ладонь горячие картохи. Под конец она стала посреди хаты и развела руками:
– Не обессудьте, люди добрые, но всех вас ни прокормить, ни приютить надолго я не смогу, – сказала она и заплакала.
– Ну что ты, хозяюшка, мы же люди понятливые, – послышалось отовсюду. – Спасибо за ночлег, хлеб-соль, если выживем – в долгу не останемся…
Когда беженцы стали расходиться – кто по своим селам, кто искать нового постоя, Палажка подошла к бабушке:
– Ты, Марья, оставайся пока невестка найдется – человек ведь не иголка в стоге сена. А там будет видно.
А я все время думал о маме. До дрожи в теле я представлял, как она возвращается с рынка, а в селе никого нет, мама кидается нас искать, бежит ночным лесом, воют волки…. Я теребил бабушку за рукав: пойдем маме навстречу! Но на улицу меня не пускали, вдобавок я простудился: заболело горло, поднялся жар. Утешение явилось мне в горячечном сне: кто-то очень родной мягко и ласково поднял меня с лежанки и стал целовать. Спросонок я не сразу понял, что всё происходит наяву – мама нашлась!. Выменять шапку для меня маме не удалось. В тот день в Радомыщле случилась облава – рынок взяли в кольцо солдаты и полицаи, стали проверять документы. Тех, у кого не было немецкой справки – аусвайса, сажали в машину для угона в Германию. Маме удалось выскользнуть из окружения, отдав полицейскому всё, что брала для торга: соль, махорку и сливочное масло в листке из лопуха. А беленький берет, по счастью, у мамы остался, чему я очень обрадовался: может, когда-нибудь снова будет играть музыка, и мы вместе всей семьей пойдем на праздник? Мама рассказала, как искала нас повсюду, расспрашивая всех встречных-поперечных, не видели ли они бабушку с маленьким мальчиком. И ещё о том, как в Осычках хоронили бабу Ульяну и Дусю…
Через день по совету Палажки мама пошла со мной на другой конец Заболоти, где жила седая знахарка Тетяна, умевшая лечить заикание. Она велела мне произнести несколько слов и сказала, что болезнь моя «висит на губах», затем дала нам для заварки несколько пучков разной сушеной травы и попросила прийти снова в следующую пятницу с двумя десятками куриных яиц для заговора. Два десятка яиц! – немыслимое тогда изобилие. Где, как и на что выменяли их мама с бабушкой – я не знаю. Но до сих пор помню тот знахарский заговор. Тетяна занавесила окна, зажгла зеленую свечу, поставила на пол небольшой тазик, а меня посадила на табуретку и велела разуться. Затем она по очереди брала яйца и, водя ими вокруг моей ступни, бормотала что-то о том, чтобы из них вылуплялись желтые цыплята, а не черные жеребята, и разбивала их о тазик. Заговор и молитва длились долго, пока Тетяна не сказала «Аминь».
Как бы там ни было, но мало-помалу я стал забывать о своем недуге. Но нас ожидала новая беда. Она явилась буквально с порога: однажды в хату вошел сам староста деревни. Палажка отзывалась о нем как об уважительном человеке. Он поздоровался с нами, осмотрел всё и, ничего больше не говоря, вышел на улицу, поманив за собой хозяйку.
Она вскоре вернулась и сказала, что староста по доброте своей дает нам три дня сроку: мы регистрируемся в полиции или уходим – иначе всем несдобровать. В тот день взрослые сидели до темноты, не зажигая огня. Куда идти? Палажка уговаривала маму и бабушку пожить у нее до весны и стать на учет в полиции – немцы, мол, не всех же увозят в Германию.
– Нет нам здесь спасения, бежим-бежим от беды, а она за нами по пятам, – отвечала мама. – Чую: надо подаваться в город, в многолюдье – там, наверное, легче затеряться. Войне конца-краю не видно, говорят, что немец уже далеко за Доном...
Решили добираться до железнодорожной станции Малин, а там, если удастся, доехать до Киева, где жили хорошие знакомые бабушки. По ночам уже стало подмораживать, и лужицы к утру покрывались тонким голубым ледком. «Вот и хорошо, – сказала бабушка, – легче будет идти». Мне, чтоб не замерзал, нашли чуни из сырой кожи, суконные онучи и чье-то потертое пальто с торчащей из прорехи ватой.
У нас, к радости, появились попутчики – несколько женщин и маленькая девочка Катя. Под вечер мы подошли к какой-то деревне, но хаты стояли темные и нам никто не открыл. Ночевали в норах, вырытых в стогу соломы, что стоял в поле. В нашей норе было тепло, только мыши, шурша и попискивая, долго не давали заснуть.
Зима в Малине.
«Что случилось? Связи нет. Мост взорван. Были там партизаны? Взрыв на пути. Поезд сошел с рельсов. Возьмите с собой санитарный ящик. Центральная? Дайте скорее…»
(Из немецко-русского железнодорожного разговорника. 1942 г.).
Дальний паровозный гудок меня обрадовал: значит, скоро конец нашей ходьбе – я валился с ног от усталости. Пройдя улочкой Малина, дома на которой были точь-в-точь такие же, как и в нашем родном городке (так захотелось домой!), мы вышли к самой станции – красивому одноэтажному зданию, но увидев там полицейских, остановились.
Начало снежить, наши спутники побрели искать своих знакомых, а мы укрылись в чьем-то заброшенном доме с выбитыми окнами и дверьми. По пустым комнатам гуляли холодные сквозняки, но бабушка нашла в углу дома маленькую каморку. В ней не дуло и мы, наконец, уселись на пол. Из еды, взятой в дорогу ещё в Заболоти, у нас были сухари и соленое сало, обсыпанное золой, – так баба Палажка охраняла свой самый ценный харч от возможных грабителей, рассчитывая обмануть их черной обсыпкой.
Немного отдохнув, мама ушла искать ночлег. Вернувшись, она сказала мне с улыбкой: «Будешь нянькой. Нас берет на постой женщина с двумя малыми детьми». Наша новая хозяйка тетя Галя работала на станции, где мыла и убирала вагоны, чистила от снега и грязи железнодорожные стрелки Дети же целый день оставались дома одни: Миша – он до войны окончил первый класс школы, и его сестренка Маня, двух лет.
Миша однажды убежал на улицу, а Маня одна сильно ушиблась, слетев с узкого подоконника. Тетя Галя разрывалась на части между домом и работой, бросить которую было равно голодной смерти: ей на станции выдавали хлеб, мясные кости, пшено, подсолнечное масло.
Нас она приняла на время – до того, как мы сможем уехать поездом в Киев. Однако без специального пропуска, причем, на каждого из нас, думать о поездке было пока нельзя. К тому же, по словам Гали, прибывшая для охраны станции чехословацкая часть вела себя строже самих немцев. Больше всех нашему постою обрадовался Миша. Теперь он днями пропадал с друзьями и возвращался только к вечеру, часто с набитыми всяким добром карманами: то семечками,то зерном, то солью, то даже сахарным песком. Секрет его добычливости открылся однажды самым жутким образом: Миша прибежал домой с окровавленной рукой – его чуть не загрызла овчарка охранника с железной дороги. Ему чудом удалось оторваться от неё и скрыться, иначе бы матери грозила строгая расправа. Оказывается, окрестные мальчишки, сбившись в команду, скрытно нападали на вагоны и платформы с продовольствием, которое немцы вывозили в Германию.
Наступала зима. Маме всё трудней удавалось добыть на базаре что-нибудь из продуктов – за них уже были отданы и золотое колечко, и брошка. Благо тетя Галя делилась с нами картошкой и свеклой. Как-то раз она пришла с работы оживленной и позвала маму для важного разговора. Тетя Галя узнала, что дед Иван, топивший печи на вокзале, заболел и ему срочно нужна замена, и что она замолвила за маму словечко станционному управляющему. Мама уходила на станцию чуть свет. Нелегко было ей с непривычки управляться с топкой нескольких печей и весь день поддерживать в них огонь, а с вечера заготовлять лучину и сухие дрова для растопки на завтра. Я не спал до самой ночи, дожидаясь маминого стука в дверь, чтобы соскочить босиком с топчана и прижаться к её пахнущей дымом и углем одежде…
Теперь и мама приносила иногда с работы кое-какие продукты: всё шло в общий котел. Днем в доме всем управляла моя бабушка: она и варила, и стирала, смотрела за Маней и за нами с Мишей. Иногда она разрешала нам вдвоем покататься по льду близкой речушки Ирша. В нашем домике житьё входило вроде в свои берега: рука у Миши заживала, и мы, хотя и питались вполсыта, но не голодали. Однако в городе было неспокойно.
Придя с работы, наши мамы шепотом рассказывали о пожаре на лесозаводе, о взрыве на водокачке, о воинских поездах, подорвавшихся на минах. А в январе по всему Малину прошли аресты каких-то подпольщиков. Немцы бросили их в тюрьму, устроенной в костеле, долго мучили, затем расстреляли.
…Кто мог тогда знать, что деяния людей, скромно и незаметно живших на тихих улочках этого провинциального лесного городка, составят славу великой страны!? После войны легендарным руководителям Малинского подполья Павлу Тараскину и 20-летней Нине Сосниной были посмертно присвоены Звания Героев Советского Союза.
Что-то стало меняться в повадке немцев. Они ходили хмурые, злые и на глаза им лучше было не попадаться. Пожилой чешский солдат, что охранял склад с углем и дровами, рассказал по секрету маме, что недавно русские сильно побили немцев в Сталинграде.
В один из теплых дней – снег во дворе начинал уже подтаивать, в нашем доме задрожали стекла, мы услышали сильные взрывы. Бабушка тут же заставила меня с Мишкой лезть в погреб и сама опустилась туда же с Маней. Мы долго лежали на картошке, я даже задремал, как вдруг вскочил в ужасе: мне показалось, что ко мне в нос залез какой-то жучок. Но бабушка засмеялась: «Это не жук, а росточек. Видишь: картошка прорастает на глазах – весна скоро».
Оказалось, что испугавший нас грохот шел от взорванного поезда со снарядами недалеко от станции. Немцы сразу оцепили все вокруг и согнали местных рабочих на вокзал для допроса. Маму и тетю Галю отпустили домой лишь под утро, грубо прогнав с работы.
Беспечное время для нас в Малине закончилось. Оставаться приживальщиками у тети Гали нам было нельзя, хотя мы и сдружились. Куда уходить, где нас ждут? – плакали женщины, ревели и мы, дети. «Будь что будет, – сказала бабушка. – Надо пробираться на восток, в сторону Киева, поближе к своим». На счастье, дальний родственник тети Гали собрался на санях ехать по своим делам в Песковку. После трудных уговоров он согласился нас подвезти.
( Окончание следует)