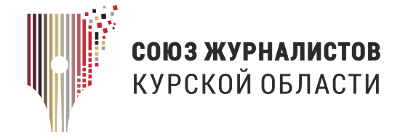Журналистика в Курской области
Иду и возвращаюсь. Продолжение.
К 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне продолжаем публиковать автобиографическую повесть Александра Щигленко "Иду и возвращаюсь".
Смерть деда Ивана.
«Уничтожь в себе жалость и сострадание ко всякому русскому, советскому, не останавливайся, если перед тобой старик, женщина или ребенок»
(«Памятка немецкого солдата». 1941 год.)
В тот день с утра дед Иван собирался переносить улья на зиму в сарай и пошел по селу искать помощников. Марфа отговаривала его: «Не ходи никуда, ради Бога. Где их найдешь, здоровых мужиков, остались одни старики да увечные, вроде тебя. Сами как-нибудь совладаем». Но дед упрямился. На другом конце села жил его одногодок Кондрат, с которым они дружили с молодости, вместе работали в колхозе. У Кондрата тоже было двое сыновей, которых призвали на войну, а в хате остались невестки с внуками. Дед Иван долго не возвращался.
– Пошла по масло, а в печи погасло, – досадовала Марфа. – Пока деды не наговорятся, дела не будет. Пойти за ним, что ли?
Выйдя из хаты, она увидела, как в село въехало несколько машин с немцами и полицаями. Откуда они взялись – никто не знал. Похоже, что они возвращались из соседнего села Старосельцы, откуда вчера слышались глухие взрывы. Там немцы как будто напали на отряд наших солдат, не успевших выйти из окружения. К Марфе подошло несколько немцев и, показывая на ульи, стали требовать меду. Она развела руками и стала объяснять, что хозяина нет, что он вот-вот придет и тогда…
Но немцы её видно не поняли, и слушать не стали. Они набрали из колодца ведро воды, и пошли в огород. Один немец поднял крышку улья, а другой быстро вылил туда воду, а потом стал доставать рамки и выдавливать из них в ведро желтый мед. Обмокшие пчелы не летали и не жалили. Тут на беду появился дед Иван. Прихрамывая, он подскочил к разорителям, оттолкнул их от улья и гневно что-то сказал. Один из немцев, не раздумывая, снял с груди автомат и ударил им деда в спину. Дед упал, а немцы, собрав мед, вернулись к машине и уехали. Марфа, бабушка и мама с трудом внесли стонущего деда Ивана в хату. Его подняли на лежанку, завернули на спине рубаху и увидели темное красное пятно. Женщины со слезами стали вспоминать, что с этим надо делать. Сначала на ушиб наложили мокрое холодное полотенце, потом компресс из натертой сырой картошки, но дед охал по-прежнему. Я сидел рядом с дедом Иваном, гладил его слабую руку и тоже плакал.
– Не реви – ты же мужик, – с трудом сказал мне он. – Ничего, мы еще с тобой землянку докопаем, буквы учить будем…
К вечеру вернулись наши постояльцы немцы: офицер, неразговорчивый и угрюмый человек, и его охранник, которого звали Отто. Солдат, казалось, был добрее своего начальника. Он как-то раз угостил нас сахаром и дал пачку спичек. А однажды Отто меня даже пожалел. Он разбирал свой автомат, разложив на столе много маленьких желтых патронов. Я сидел рядом и незаметно сунул себе в карман два патрончика и выбежал любоваться ими за хату. Но вдруг услышал громкий крик Отто и мамин плач: «Пан, пан, не надо капут! Он ещё маленький, не понимает!». Мама привела меня, вывернула мой карман и протянула Отто злополучные патрончики. Немец был в гневе, замахнулся на меня, но не ударил – мама загородила меня собой.
Однако в тот день Отто было не узнать. Он вышел из офицерской комнаты и, показывая на стонущего деда Ивана, грозно крикнул «Вэк!» и махнул рукой на дверь. Решили перенести деда в кладовку – одна её стена примыкала к кухне и была теплой. Дед Иван старался не стонать, а только глухо кряхтел. Вместо сырой картошки ему стали делать компрессы с горячим песком, но и это ему плохо помогало, спина болела, и сам он ходить уже не мог.
Ночью выпал первый снег – большой, пушистый. Он засыпал всё вокруг. В огороде над оставшимися ульями поднялись белые холмики. Наступила наша первая зима в беженцах. В запряженных лошадью санях подъехал Рагуля и велел сдать имеющиеся топоры, лопаты, молотки и пилы, как того требует немецкий приказ. И добавил, что все здоровые сельчане обязаны выходить на расчистку дорог и рубку леса.
Мама, бабушки Марья и Марфа, укутавшись в платки с головы до ног, уходили утром на работу и возвращались, когда начинало темнеть. Они иногда приносили домой немного хлеба, который им за работу выдавали немцы. Еды стало не хватать, вместо борща Марфа теперь варила из муки похожую на кисель затируху с кусочками картошки,. Зойка почти перестала доиться. Она давала только маленькую баночку молока, которую делили между дедом Иваном и мной.
Однажды мама принесла сосновую ветку с зелеными иголками с той поляны, где мы с Митей и Соней собирали грибы. Все деревья, большие и маленькие, и даже кусты, что подступали близко к селу, немцы приказали вырубить. Ветку поставили в стеклянную банку с водой, на иголки навесили вроде снега кусочки ваты. «Скоро праздник – Новый Год», – сказала мама. От этих слов мне стало так радостно, что я даже весело засмеялся: все скоро переменится, война кончится, мы вернемся домой! Бабушка Марфа меня похвалила: «Молодец, так и должно быть – от радости люди всегда смеются». И, вздохнула, посмотрев на деда Ивана: «А плачут только от горя».
На улице ударили морозы. Чтобы офицер не замерзал, Отто привез целую машину дров, и печь в доме топили утром и вечером. А в кладовке стало прохладно и неуютно, но пришел дед Кондрат и устроил в ней железную печурку. Он долго шептался с дедом Иваном, и я слышал, как дед Кондрат сказал что-то о Москве. От этих слов дед Иван взволновался, даже приподнялся в постели и перекрестился: «Я знал, знал, что Господь нас не оставит!».
Дед Иван исхудал и часто был в сильном жару. Иногда во сне звал своих сыновей. А днем велел Марфе тайком принести ему спрятанные в сарае фотографии сыновей. Временами он забывался и просил бабушку выйти на дорогу навстречу Кости с Антоном, которые идут прогнать немцев из нашей хаты. В один из дней он меня не узнал: «Ты чей, мальчик?». Я расплакался, и мама увела меня в хату.
В колючие холода женщины на работу не ходили, и в такие дни мне удавалось чаще бывать с мамой вдвоем. К тому же я заболел свинкой. Мы забирались на печь и говорили обо всем. Она рассказывала мне сказки. Я переживал, когда Ивасика-Телесика чуть не съела злая ведьма, и радовался за смелого и сильного Катигорошка, который всех победил и женился на царевне. Хорошо помню и песни, которые мама мне тихонько пела: и про казака, уехавшего за Дунай, и про карие очи, и про бандуриста. А ещё – «Там, вдали, за рекой» и «Утро красит нежным светом». Я спрашивал о Москве: «Это большой город?». «Не только большой, а самый главный город», – отвечала мама. «А немцы тоже там?» – не унимался я. Мама испуганно прикрыла мне род ладонью и на ухо шепнула: «Нет их там. Ты только слово «Москва» никому не говори, а то убьют».
…Так вышло, что это слово однажды стало для меня самым родным и близким. После войны, когда я уже ходил в школу, мне пришло письмо из Москвы. От мамы. «Из окна нашей палаты видны звезды Кремля», – писала она. После беженцев мама стала часто недомогать, врачи нашей районной больницы не знали, как её лечить и послали маму на обследование в Москву – в Центральный научно-исследовательский институт рентгенологии и радиологии имени В. М. Молотова. Как много было доброты в послевоенные многотрудные годы!
Те зимние дни и вечера, разговоры с мамой на печи – одно из самых светлых моих воспоминаний. Но когда начиналось утро, все собирались в кладовке: деду Ивану становилось всё хуже. Бабушка Марфа ночевала там же, топила печурку, грела воду и готовила для деда чай, заваривая веточки вишни и смородины. Я деда иногда тоже не узнавал: лицо у него сделалось желтым, а руки стали тонкими и покрылись морщинками. Меня часто прогоняли с кладовки: «Иди, погуляй!».
В один из теплых дней, когда снег уже начал таять, в хате все забегали, бабушки и мама заголосили: дед Иван умер. Меня все покинули, я забился на печи в угол и тоже плакал. Мне было жалко деда, а ещё и маму, и бабушку, и Марфу, и себя: неужели мы тоже умрем и никогда больше не соберемся вместе?
Побег в Осычки.
«Кто имеет связи с партизанами, тот наказывается смертью».
(Из приказа по сухопутной армии вермахта.)
После смерти Деда Ивана в хате стало совсем уныло. Женщины всё больше молчали, иногда плакали. Наступила весна. И тут все заговорили о козе Зойке, любимице деда. Кормить её стало нечем: веники и сено, что заготовил дед, закончились. Из всего хозяйства осталась только коза – пасека вымерзла. Бабушка Марфа сходила куда-то на край деревне и принесла для Зойки несколько пучков веточек распустившейся ивы. Ещё ей резали сырую картошку и поили теплой водой с макухой. Мне разрешили подлизаться к ней кусочком хлеба с солью. Козу стали выводить во двор и однажды она всех нас страшно перепугала. Отто как раз вышел из хаты, а Зойка тихо подбежала сзади и боднула его. Бабушка Марфа замерла в ужасе. Немец быстро оглянулся, но увидев козу, лишь погрозил ей кулаком. После этого Зойку держали на привязи за хатой, где уже поднималась свежая трава.
Распутица кончилась, дороги подсохли и теперь староста объезжал дворы, приказывая всем выходить в поле пахать и сеять, чтобы поддержать немецкую армию хлебом. От нашей хаты на работу ходила только одна мама – бабушек уже не брали. А мы с Митей и Соней, пока немцы были в отлучке, грелись на солнце, сидя на завалинке нашей хаты, потом собирали молодую крапиву и дикий щавель. Казалось, что так мирно и солнечно будет долго, но спустя несколько месяцев всё внезапно переменилось. Уже колосилось жито, когда на дороге, по которой мы с бабушкой и мамой в прошлом году бежали из города, случился бой. Партизаны устроили засаду на две немецкие машины. В одной из них были наши постояльцы – офицер и Отто, и оба они погибли. Остальные немцы сумели отбиться от партизан, а одного из них, раненого, даже захватили в плен.
Несколько дней в лесах вокруг села шла облава на партизан. Нам приказали ни в какую на улицу не выходить. Бабушки говорили о засаде, вспоминали Отто – он все-таки иногда был к нам добрым. Раненого партизана никто не видел, его сразу увезли в город на допрос. Потом туда же вызвали нашего старосту – не знает ли он случайно этого пленного. И Рагуля признал в нем Семена – сына деда Кондрата.В это не верилось: все вокруг знали, что Сенька с братом ушел на войну – их провожали всей деревней, как он мог оказаться в партизанах? Но через день возле правления с утра стали строить виселицу, а уже к вечеру сюда согнали всех. К нашему двору подошел незнакомый полицай (их много наехало в Березовку) и приказал нам идти на площадь.
Немецкий офицер крикнул собравшимся, что смерть будет каждому, кто помогает партизанам. Я не видел, как вешали деда Кондрата и его сына – мама закрыла меня платком. Но когда мы возвращались домой, я оглянулся: на высокой перекладине, склонив головы, висели два человека с табличками на груди. А ночью послышался безумный женский крик, затем стрельба и деревня осветилась розовым огнем – горела хата деда Кондрата. Рассказывали, что в ней, наверное, сгорели обе невестки и внуки деда – их потом никто не видел. На пожарище люди заходить боялись, там только торчала обгорелая труба, и чернело устье печи. Бабушка Марфа в ту ночь не спала. Она, раскачиваясь, сидела на скамеечке и, закрыв глаза, тихо стонала. Её не утешали: все знали, что дед Иван и Кондрат были друзьями, по праздникам гостили друг у друга... Утром её было не узнать – она сгорбилась и поседела.
Подошла жатва, и мама рано уходила в поле вязать снопы. В один из дней появился новый приказ: всем деревенским девушкам и молодым женщинам явиться вечером в правление. Полицай со списком заглянул в наш двор и велел быть там и маме. Вернувшись, она рассказывала, что в правлении играл патефон, на стенах были развешены плакаты, на которых улыбающиеся и счастливые люди приглашали ехать на работу в Германию: «Работа в Германии доставляет радость!», «Так живет немецкий рабочий!», «Твоя работа сократит войну».
Немец, говоривший по-русски, убеждал женщин, что они смогут хорошо помогать оставшимся родным, присылая из Германии богатые посылки и деньги, а через год приезжать домой в отпуск. Тех, кто запишется в список первыми, получат в Германии более чистую и лучше оплачиваемую работу. Сроку на решение о поездке давалось три дня. В тот вечер мы все долго не спали. Думали, что делать.
– Ишь, патефоном улещивают, – первой начала бабушка Марфа. – Немцам верить, что волку в овчарне. Чует моё сердце: кто из девчат ехать подобру не согласится, тех насильно увезут. Мне, родные мои, говорить это горько, но вам надо бежать. А я с Зойкой останусь при хате – буду ждать сыновей.
Куда бежать, если кругом немцы? Марфа советовала идти в сторону городка Малина, в Осычки, к её двоюродной сестре Ульяне. Осычки, мол, хуторок тихий, все хаты наперечет, не то что наша Березовка, там вербовать в Германию некого, а Уля вас приютит – она человек добрый. Её хата – крайняя. Поживите у неё немного: война-то, даст Бог, когда-нибудь да окончится.
Решили уходить завтра поутру. Стали собираться. Марфа передала для сестры подарки: отрез материи на юбку, лисий воротник, туфли. А еще мы взяли с собой мешочек махорки для мены (дед Иван сам растил табак, сушил и дробил его), соль, а также немного еды: сухари, вареную картошку в мундирах, пшено, бутылку козьего молока. Всё это вместе с нашими узлами положили на ручной возок, оставшийся от деда Ивана. Бабушка Марфа смазала его какой-то мазью от скрипа и показала окольную дорожку, чтобы нам неприметней выбраться из села. Утром, к счастью, выдался густой туман. Бабушка Марфа вышла с нами за ворота, поцеловала всех, перекрестила, и мы тихо ушли. В стороне смутно белела соседская хата, в ней остались мои друзья – Митя и Соня, с которыми я так и не попрощался.
( Продолжение следует)